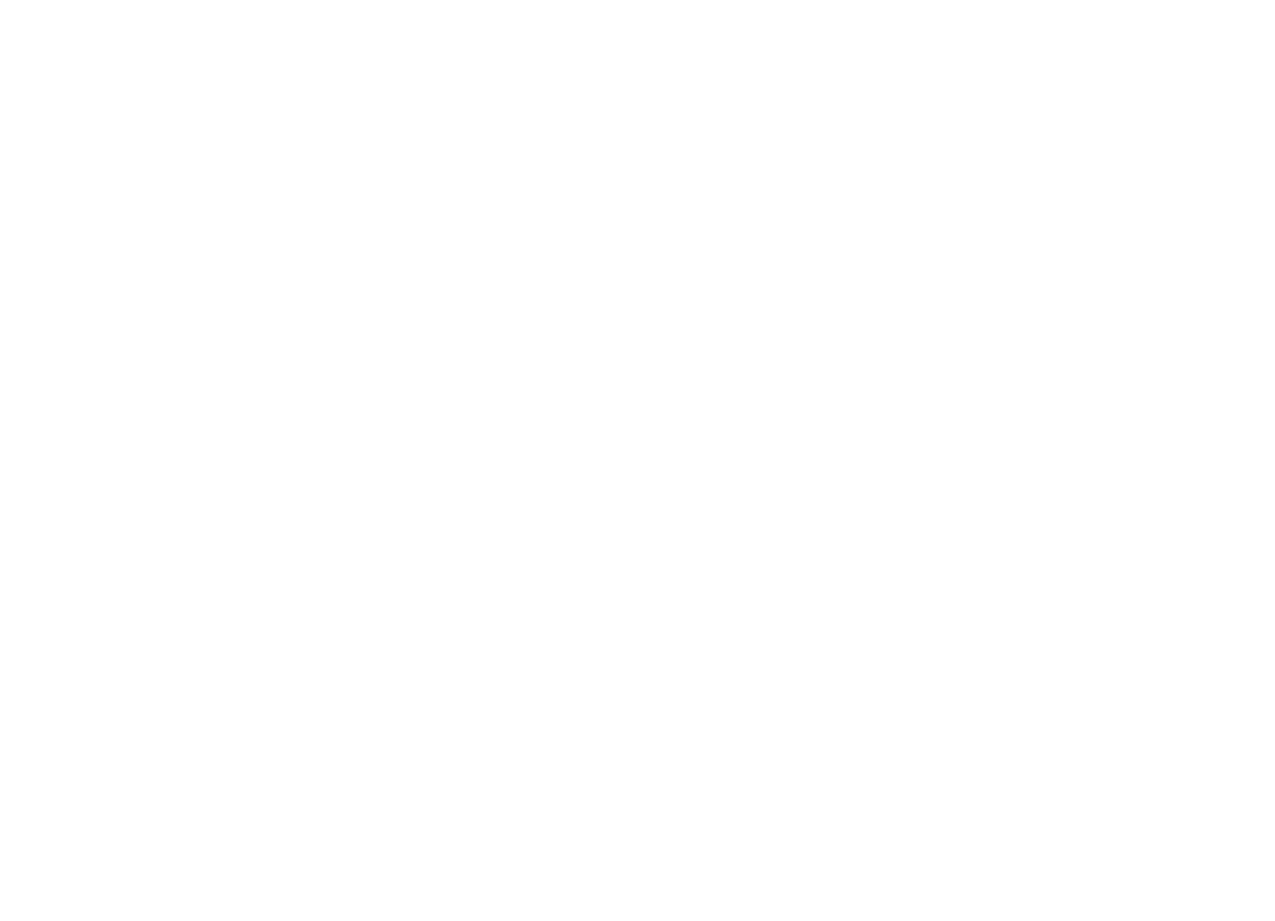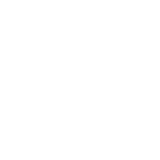БУЗОВЬЯЗЫ
Большинство наименований татарских и башкирских сел и деревень связаны либо с названием местности (топонимы, гидронимы), либо с именем основателя селения. Первоначальным наименованием села было Муслюмово, связанное с именем первопоселенца Муслюма Каныбекова (1717 года рождения). С конца XVIII века за селением закрепилось наименование Бузовьязы, связанное с речкой, по берегам которой раскинулось село. Название речки состоит из двух компонентов:"буз" — лед и"язы" — древнетюркское слово, означающее текучесть. Сама этимология слова предполагает льдистость этой речки. И действительно, речка чуть ли не до июня бывает покрыта льдом.
Расположено на реке Бузовьязы (бассейн реки Уршак), в 26 км от райцентра и 39 км от железнодорожной станции Карламан.
Деревня была основана по записи от 2 марта 1757 года, данной поверенным башкир Уршак-Минской волости Ногайской дороги Ретькой Зиямбетовым мишарям деревни Айметево (правильнее Ахметово — ныне в Кушнаренковском районе) Муслиму и Абдюку Каныбековым, Бакиру Бикметову и их товарищам (всего 12 дворов) о припуске их в свою вотчину по речкам Бузовьяз, Сакат и Узень на 20 лет. Границами владений припущенных мишарей показаны:
“
«От Юртбар-Синир черной лес, и от него на мыс и по речке Бызовьяз по обе стороны, сено косить и землю пахать, до деревни Токаевой по старой меже до лесу Кош-буляк по нижнюю сторону по речке Сакат до устья, и на Узене речке с мельнишным местом, и сверху по левую сторону сено косить до устья, да по речке Бызовьяз на низ до мосту по левую сторону, а с мосту на мыс, а с него на летние башкирские кошевья и на 2 таловые куста и на черемисскую межу, и по черемиской меже по левую сторону, а оттоль на мыс и на первую межу Юртбар-Синир на черной лес»
На договоре подписи сотника и 77 башкир с волостной печатью. Вотчинники обязались через 50 лет отдать землю новоселам по надлежащей цене.
НАШЕ СЕЛО С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА